 А. Басалаев. Фотограф Виктор Ахломов
А. Басалаев. Фотограф Виктор Ахломов — В одном из ваших интервью вы говорите, что для вас принципиальна черно-белая фотосъемка. Какая за этим кроется интуиция?
— Ну, это можно определить по-разному. Во-первых, снимаю я давно, с 1960 года, и сама судьба обрекла меня снимать в черно-белом, пока не наступила эра поголовной цветной съемки. С другой стороны, могу сослаться не только на себя. В одном из интервью кто-то из великих итальянцев, по-моему Микеланджело Антониони, говорил, что настоящее кино, то есть такое, где ты хочешь выразить не просто что-то документальное, но некий обобщенный взгляд на мир, можно снять только в черно-белом варианте. Там лучше выражается мысль.
Что черно-белое лучше, я испытал на себе, когда потерпел сокрушительное фиаско как фотограф. История такова. Когда началась перестройка в конце 80-х и когда все «вышли на улицу» — оркестры, лоточники, бабушки, рокеры, — я понял, что для фотографа наступили именины сердца. И я стал снимать тему «Жизнь в переходе» и снимал все время на черно-белую пленку. Эта серия была очень заметна. Я получил за нее несколько очень серьезных призов... Потом какой-то толстый гламурный журнал сказал, мы-де хотим эту тему напечатать, но у нас ведь все цветное, не могли были вы это же снять на цвет. И когда я эту тему стал снимать на цветную пленку, те же самые сюжеты, проявился какой-то чудовищный диссонанс. Например, я снял спящую старушку-бомжа на киевском вокзале, около нее стоял огромный «баул» с какими-то там цветочками, с названием «Адидас». На цветной фотографии старушка моя размывается и глаз смотрит не на то, что хотел сказать художник о старушке, не то, что он в ней увидел, а на то, какой цветной мешочек, какие рюшечки, какая фирма. Цвет очень радует, отвлекает, он не передает ни трудности этой «жизни в переходе», ни моих размышлений, он отвлекает от главной идеи. У меня есть целый ряд цветных фотографий, которые в черно-белом варианте смотрятся значительно лучше и сильнее.

Цвет, конечно, прекрасен, но для достижения творческих задач его очень трудно использовать, и надо это делать очень умело...
Когда в 70-м году я впервые приехал в Америку, в американских самых что ни на есть лучших профессиональных журналах мы вели дискуссии, как будет развиваться цвет. И там на этой дискуссии все сошлись во мнении, что в цветной фотографии очень трудно выразиться художественно. Потому что в цвете, как говорили и сами американцы, разбираются только люди с Востока — китайцы и японцы, то есть именно они хорошо чувствуют цвет. И приводили пример, что спроси нашего шестилетнего европейски еврейского мальчика, сколько цветов он может назвать, он тебе назовет десять, ну пятнадцать, а мальчик того же возраста с Востока цветов сто двадцать... И в этом я согласен с американцами: Восток как-то лучше чувствует, как можно выразиться через цвет.
— В вашей интерпретации получается, что европейскому сознанию присуще черно-белое восприятие. Именно в нем мы лучше выражаем свою главную мысль. Я бы сказала, именно в нем чувственный мир только и предстает не бесформенным, а пронизанным мыслью.
— Поэтому когда критики говорят о переходе от черно-белого кино к цветному, они говорят о переходе к современной ситуации — к ситуации постмодерна. В европейско-американском пространстве цвет становится знаком «бессмысленности», и, если обратиться к кино, то такие великие мастера цветового кино, как Дэвид Линч, лучше всего создают именно это пространство «дезориентации» человека, «потери контроля».
 Лужники. Автопортрет на стадионе. 1980 г.
Лужники. Автопортрет на стадионе. 1980 г. — В этом смысле про вас можно сказать, что вы не «постмодернист». Вы — «традиционный европеец».
— Я согласен с этими размышлениями. Впрочем, стоит учесть, что в фотографии очень много направлений. Однако моя точка зрения состоит в том, что самое главное направление в ней это все-таки направление репортажной фотографии, и не просто репортажной, а когда репортаж поднимается до каких-то знаковых осмыслений. Это направление Анри Картье-Брессона, французского фоторепортера, который считается отцом фоторепортажа.
Ведь фоторепортаж родился тогда, когда родилась «Лейка», в 1925 году, когда этот немец, Оскар Барнак, ее и придумал. Камерой, где негатив 24 на 30 сантиметров и которая весит 100 килограммов, репортаж не снимешь. Брессон же стал отцом фоторепортажа, когда взял эту новорожденную «Лейку», вышел в парижские кварталы, стал снимать проституток, музыкантов и прочих бродяг, нищих и делал таким вот образом потрясающие неповторимые кадры. Его направление называется «Решающий момент» — он снимает такую жизненную картинку, которая неважно, где снята, но она обобщает мировую ситуацию любви, ненависти, страдания, блаженства. И вот это направление мне кажется самым главным в фотографии — ее предназначением.
— То есть с помощью нового технического средства, «Лейки», человеку стала доступна новая зрительная материя: абсолютно неповторимая жизненная ситуация, в которой передается какой-то из основных параметров человеческой жизни?
—Кто-то сказал: увидеть вечность в одной капле. Да, но в капле, которая творится художником размером с Картье Брессона. Потому что репортаж сейчас снимают все, даже те, кто не называет себя фоторепортером. Кто-то поехал куда-то и снял репортаж с салона новых автомобилей. Но это просто ничего не стоит. Это как документальные фотографии, которые на Петровке 38, когда кто-то упал из окна и надо снять, как он лежит: сам прыгнул или его толкнули. Так же репортаж делает весь мир. А есть люди, которые «Магнум» организовали, типа Роберта Капа или того же Картье Брессона, они так репортаж снимают, что эти снимки живут потом вечно. Тот же салон: он так увидел и снял женские ноги на фоне автомобиля, что из этого вытекает все на свете: и как мужчина смотрит на женщину, и как она его соблазняет.
 Устали. 1957 г.
Устали. 1957 г. — И как он смотрит на «машину», и как она его соблазняет...
— ...Да, что угодно: здесь, повторюсь, как в капле может отразиться весь мир, и образ этот живет вечно. А тот репортаж, что снимают папарацци во всем мире, будет жить один день...
...Репортер схватывает решающий момент. Как описывает Брессон, это какой-то момент жизни, когда ты собственно увидел нечто, превышающее простой набор фактов, и именно это и надо снять: то есть снять так, чтобы, во-первых, это было художественно выразительно и грамотно, по всем законам композиции, а во-вторых, чтобы, глядя на твой снимок, зритель не просто видел: вот «лошадь упала», а как у Маяковского, — упала и глаз ее смотрит на мир, и в нем отражается весь ужас обыденщины и жестокости... из тысячи «вариантов» одной ситуации надо выбрать такую, которая и по цвету, и композиции, и по состоянию всех действующих моделей несла бы в себе образ чего-то.
— Но в этом смысле почему не снимать чисто формальные фотографии, как бы чистые «вечные» образы, согласно всем законам визуальной «грамотности» и смысловой наполненности?
— Чистое формотворчество меня не привлекает: форму легче сделать. Интереснее все находить в жизни.
Вот эта фотография с птицами. Она имела успех, была везде на плакатах, ее ведь можно легко использовать... Эти птицы с ветками, может быть, подспудно напомнили мне какую-то китайскую графику или линии Пикассо. Здесь так мало изобразительных элементов, но эти воробьи сидят так равномерно, что красиво смотреть, они радуют глаз. Представьте, если бы они все сидели в одном углу или в середине, это было бы не произведение. Это и есть то, что называется формой.
 Сибирь. Сплав леса на реке Конда. 1968 г.
Сибирь. Сплав леса на реке Конда. 1968 г. — ...А в чем же здесь «решающий момент», если все-таки это форма, в чем здесь «репортажность»?
— Да в том, что фотография эта была сделана на набережной, и что все остальные жители Москвы прошли мимо и ничего не увидели, а один придурок с фотоаппаратом снял и показал всем другим. Снять, что я вижу, в принципе может любой, а вот увидеть — нет. Я потому не сторонник того, чтобы придумывать формы и композиции, что стараюсь все, что иные придумывают, найти в жизни, потому что в жизни есть все — даже больше...
— То есть кроме своей формальной красоты эта «репортажная» фотография девяти воробьев говорит о том, что прекрасна сама жизнь, что придумать мы ничего не можем, мы можем только увидеть?
— Почему все дети до пяти лет гениально рисуют? Да потому что создателем, Богом, в нас заложен талант к радостному восприятию мира, и ребеночек начинает это все изображать. А потом, умножая знания, этот ребеночек умножает печали и спрашивает: а зачем мне все это?
Восприятие гаснет, появляется будничная бессмысленность... Возникает «безрадостный взгляд»...
У меня даже на этот счет есть пара любимых цитат.
Одна вот какая: «Драма существования человека — ленность и нелюбопытство глаза; вялость души, отчаяние, омертвение духа — следствие того... Но кто-то же видит и открывает радостное чувство мира! Это — художники...».
У Толстого тоже есть такая цитата: «Главное — это научиться видеть, а писать — это уже следствие». Это вот откуда: он на станции увидел труп девушки, бросившейся под поезд. Она любила, ее обманули, и она не захотела жить. Толстой вернулся и записал все это в дневнике на полстранички. И в этой записи уже вся сцена, вся драма, а еще, что любопытно, и то, как солнце падало на ее шелковые волосы, и где кто был, когда он об этом узнал. То есть Толстой сначала увидел «кадр», где уже было все, а потом уже написал роман «Анна Каренина».
 Девять воробьев. 1980 г.
Девять воробьев. 1980 г. — А у фотографа и есть только этот кадр, который он не может развернуть потом в роман, а должен просто уметь показать в нем очень много?
— Да, очень много. Вот, скажем, террористический акт на Пушкинской площади, который случился прямо у нашей редакции. Через пять минут там были все фотографы Москвы (62 фотографа точно), которые все это снимали, причем снимать можно было где угодно, как угодно. А есть такой амстердамский пресс-конкурс, куда принимаются фотографии экстремальных событий, произошедших за год. И все наши фотографы послали туда именно взрыв на Пушкинской. И только один, Юрий Штукин, получил «Золотой глаз». Этот фотограф снял так, что в этом его кадре видно, что случилось, где случилось, как фотограф относится к этому событию, как пострадавшие люди это переносят. Другие просто снимали «трупы лежат», эти трупы могли лежать где угодно — в Ливане, в Гондурасе. А здесь важно, что было собрано сразу все, в тот решающий момент, когда и создается произведение, а не фотография для уголовного дела.
Одной фотографией он достиг огромного обобщения.
Только у него получился образ того, что случилось, а у остальных получились прекрасные фотографии — цветные, черно-белые. Но это были фрагменты: там или кто-то страдал, или кто-то кому-то помогал и т.д. Какие-то отдельные кусочки. Как в «Явлении Христа народу» — сотни этюдов, каждый по-своему прекрасен. Но картина-то одна. Все сняли этюды, а он снял «Явление». Окровавленные люди, в разорванных одеждах, которые сидели в шоке на фоне прекрасного исторического места... Это же говорит очень много и о современной жизни, и о том, чего в ней человек стоит, и о людском горе, и о счастье, что вот они выжили...
 С. Рихтер. 1985 г.
С. Рихтер. 1985 г. Решающее мгновение — не вещи, которые заполняют кадр, а именно показ события, на всех его уровнях...
Да, так что все становится важным, до мелочей. Зритель думает: пойдет вон тот мужик, окровавленный, в разорванных одеждах, в скорую помощь, или он домой пойдет, бедный он или богатый, как он здесь вообще очутился, что у него в жизни-то происходит, а что в моей? Это кадр отдает такую энергетику, что его потом из головы так просто не выкинешь. В нем много о чем можно думать, он просто заряжен. А когда просто мужик раненый лежит на носилках, и неизвестно, что с ним случилось, может, он под трамвай попал в городе Бердичеве, это уже не репортаж.
— Получилось кино или роман, но только на один кадр. Писатель и режиссер разворачивает то, что фотограф должен энергетически собрать в одном образе. Кино для вас что-то значит как для фотографа?
— Нет. Потому что сначала была фотография, а кино — это ее дитя, а не наоборот. Да и Толстой, как я говорил, сначала был должен все увидеть — все сразу в один момент, а писать, как он говорит, уже дело второе. Фотограф и показывает это моментальное видение. Из тысячи возможностей одной сцены, которая больше в таком своем виде не повторится, ты увидел одну, заряженную мощной энергией, которая тоже неповторима: второй такой возможности не будет. В этом чудо.
— Вы говорили, что это чудо «репортажа» открылось Европе именно с изобретением «Лейки». Но у нас довольно долго содержание фотографии было идеологическим. То содержание, о котором вы говорите, «жизнь», высвободилась именно в 60-е годы... Политическая свобода сделала для нас то, что техническое новшество сделало для Запада за сорок лет до этого, не так ли?
— Конечно... Меня пригласил снимать для «Недели» Аджубей, зять Хрущова. А Аджубей создал такую газету, которых вообще не было, где писали, как солить капусту, как грибы собирать, как вышивать, правильно ухаживать за телом, как беременеть или не беременеть... Вопросы, на которые были наложены табу, и вдруг они появились. Мне повезло, что я стал в этой газете работать. Она давала раскованность для всех моих изысканий.
И знаешь, вот эта фотография с собакой. Она сделана в 60-е, тогда, когда я даже не знал, кто такой Картье Брессон, и чего он там делал, а мне сказали, что я ее «взял» у него!
 Из серии "Вещи смотрят на нас"
Из серии "Вещи смотрят на нас" 
— Да, освобожденная «Лейка» заработала сама! И все же, как вы вырабатывали новое содержание?
— Темы пошли из «Недели». Там главный редактор это придумал, снять фоторепортаж на тему рук. Идея была такая, что руки — это первое, что встречает человека на этой земле, руки акушерки, а потом они уже делают все: обнимают, ласкают, убивают, создают, жестикулируют в разговоре. Правда, был такой американец Эдвард Стейхен, он сделал схожую экспозицию «Род человеческий». Начиналась она с человека, зависшего над матерью, на руках акушерки, и оканчивалась руками, что сыпят последнюю горсть земли на могилу. Идея понятна: руки проходят через всю жизнь. Хоть эта выставка и висела у нас тогда в Сокольниках, но вряд ли мой редактор тогда про нее знал. В любом случае серию свою я снял. Рук опубликовали штук пятнадцать. А на обложке появились руки мастера, потому что у нас тогда считалось, что в жизни труд самое важное... Я нашел специальные руки, помозолистей...
Эта тема и натолкнула меня на мысль исследовать все, что способно отразить в себе мир, как в капле... Если открыть мою фототеку, там найдутся уже не только руки, но и ноги, и голова, и глаза, и зонты, все, что угодно.
— И ваши знаменитые портреты известных людей?
— Ну да, и их. Для меня важно раскрыть человека и показать его таким, каким его или вообще никто не видел, или видел очень редко. А сделать так, чтобы видели не вот «это — Солженицын», а «вот какой необычный, глубокий человек» и потом «да это же — Солженицын».
— И все-таки эти «обобщенные» содержания слишком символичны, а значит, они устаревают. Как вы переживаете то, что смыслы могут устаревать, те же «трудовые мозоли», которые теперь почти ничего не значат?
— Я не чувствую никакого устаревания. Жизнь идет, сегодня она такая, потом другая. Смыслы могут меняться, выходить вперед те, которые я, снимая, не вкладывал. Если «момент пойман», то образ не только выдержит напор времени, но и обретет новое качество. Сейчас фотографии, которые я сделал в 60-м году, скажем, октябрьский парад, снятый с ГУМа, где портреты несли размером с полплощади, имеют просто потрясающий успех. Сейчас это, конечно, воспринимается иронично, но и внушает какие-то новые чувства. А почему? Да потому, что все уже забыли, что жизнь может быть такой. А забывать ни в коем случае нельзя. И фотография, по-моему, главное из искусств, в котором прямо переживается связь времен.
Я (про себя): да, во времени к этой уловленной в каплю, увиденной так, что не забыть, «жизни» добавляется еще одно качество: какой же странной и другой эта жизнь была... и будет.
Он (вслух): ...То, что существует в мире, пока оно не увидено, вообще ничего не значит, оно выглядит серым и нелюбопытным никому...
Я (про себя): капли, капли, капли омытого зрения... фотографический дождь, идущий уже давно...
Он (вслух): Я ведь сколько лет уже снимаю... это ведь еще твои родители не познакомились...
 Го-о-ол! 1962 г.
Го-о-ол! 1962 г.  "Чайка" нашей молодости. 1970 г.
"Чайка" нашей молодости. 1970 г. 
 А. Басалаев. Фотограф Виктор Ахломов
А. Басалаев. Фотограф Виктор Ахломов 
 Лужники. Автопортрет на стадионе. 1980 г.
Лужники. Автопортрет на стадионе. 1980 г.  Устали. 1957 г.
Устали. 1957 г.  Сибирь. Сплав леса на реке Конда. 1968 г.
Сибирь. Сплав леса на реке Конда. 1968 г.  Девять воробьев. 1980 г.
Девять воробьев. 1980 г.  С. Рихтер. 1985 г.
С. Рихтер. 1985 г. Из серии "Вещи смотрят на нас"
Из серии "Вещи смотрят на нас"











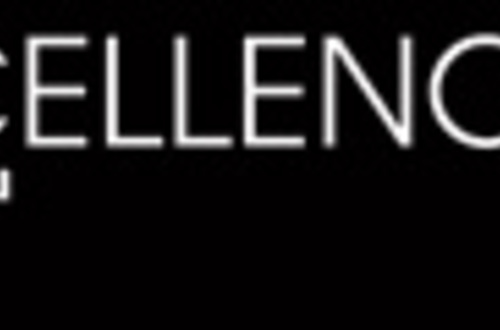
Комментарии