
Евгений Халдей.
22 июня 1941. Первый день войны
Вторая мировая война является чем-то священным для большинства людей, живущих на территории России. Поклонение ей, поклонение «подвигу людей», пожалуй, формирует нашу «общность», нашу «идентичность» гораздо больше, чем, скажем, намного более сомнительная идентичность «революции» октября 17-го года. Еще живые ветераны как бы объемом всей своей жизни привязывают «нас» к событиям более чем 60-летней давности.
И поскольку главным медиумом передачи сведений об этих событиях является «фотография» и «хроника» — эти черно-белые, несколько затуманенные образы являются в сущности бессознательными образами нашего «священного». Эта предваряющая гипотеза основывается еще и на том, что фотографы, снимавшие военную хронику, вполне осознавали свою задачу быть «летописцами великих событий», ухватывать, отражать нечто такое, что именно внутри черно-белого фотографического медиума будет наиболее сильным и энергетически нагруженным содержанием.

Эммануил Евзерихин.
Стоять насмерть! 1943
Конечно, привычно традиционные образы священного, иконы, обладают важнейшим качеством: непререкаемостью и узнаваемостью канона. В рассматриваемых нами образах, как кажется, нет никакого узнаваемого канона, но это связано именно с тем, что фотография, в отличие от красок и досок, претендует на то, чтобы быть «отпечатком» мгновенности жизни, что камера — это самостоятельно снимающий глаз, фотоглаз, не нуждающийся в мастерстве руки, кроме четкого нажатия на кнопку. Отличие сказывается в самом медиуме и собственно в том, что является тут священным, к чему мы перейдем позже.
Прежде всего выявим параллель военного фотографа с человеком стреляющим. Эта параллель не может быть здесь навязана, она вытекает из самого сходства «ружья» и «камеры», «снимающих», а по-английски прямо-таки «стреляющих», объект своего рассмотрения.

Яков Рюмкин.
Атака десантников. II Украинский фронт. 1943
В результате охотник получает «добычу», а фотограф — свою весьма своеобразную светотеневую награду, которую можно «повесить на стену». На современной войне осуществляется совершенно глубинная идентификация «фотографа» и «стрелка», вплоть до явных проявлений героизма, когда кадр снимается в общем-то с позиции солдата, идущего в атаку. Отсюда двойственность фотографа. Вследствие самой «опасности» материала фотограф не вне поля действия — он «следующий» за тем, кто последним снят в кадре.
Но, с другой стороны, этот участвующий достоверный взгляд оставляет после себя нечто, что «выносится» вовне поля действия, «след», который становится снимком, свидетельством, символом, указывающим на что-то, говорящим что-то. И вопрос состоит в том, что же видит «стрелок», кто этот стрелок? Для примера хочу подчеркнуть, как отличается военная фотография, допустим, в Англии и России... Видят разное, хотят разного и отсюда по-разному строят кадр, точно существуют две глубинные национальные структуры зрения...

Сергей Шиманский.
Ленинград, Невский 1943
Но все же и вне национального возможны различные подходы к тому, что «видит стрелок», или к тому, что «видит участник». Фотограф может снимать простое бессмыслие войны... Снимать, как тот, кто дезориентирован происходящим так же, как жертвы его, снимать как бы с точки зрения того, кто под прицелом. Снимать по сути «антивоенную» фотографию, которая признает абсолютную вынесенность реалий войны «за» рамки привычной жизни. Или, что, на наш взгляд, и происходит в нашем случае, снимать с точки зрения наилучшей ориентации, четкой позиции — снимать с точки зрения того, кто владеет ситуацией, кто ее уже «побеждает». То есть снимать с точки зрения «героя», с точки зрения «стрелка». Кадр — нужный ему охват местности, при котором он безопасен. Уже всегда заранее снимать победу (нельзя сомневаться, что множество фотографий не вошли в традиционный военный канон именно по причине своей «непобедительности»). Победительный кадр — свидетельство грядущей победы. Парадокс здесь в том, что победа «завершает» войну и начинает собой мирную жизнь. Тем самым оказывается, что снимаемые таким образом фотографии относятся не просто к «событиям дня», к моменту ужасного настоящего, а к «будущему» или к тому «прошлому», которым наше настоящее станет в будущем. Такие фотографии закладывают основы новой мирной жизни социума, который отныне начнет отсчитывать себя именно от этой «победы», в ней обретать свои смыслы как социум «победителей». Характерно и то, что таким победительным образом снимающий фотограф заранее снимает не тех, кто останется в живых. Весь авторитет, вся сила этих образов покоится еще и на том, что это образы тех, кто «отдавал жизнь» за то, чтобы в будущем социум продолжался. Поэтому странно было бы, если бы кто-то сказал: а это я на фотографии. Потому что изображается вовсе не какое-то там «я», а нечто совсем другое.
В этой внутренней пропаганде «победительного социума», «народа, работающего на победу» и был конкретный смысл военной фотографии. В фигурах «войны» она преобразовывала связь, соединяющую в обычные дни «мирное население», переводя самые обычные ритуалы (свадьбы, похороны, рождение и т.д.) в размер образов победы.

Евгений Халдей
Флаг над Рейхстагом. 1945
В этом смысле интересно проанализировать отдельные, ставшие каноническими фотографии, какие же собственно моменты социальной жизни они освещают. Знаменитая мощная фотография Евзерихина «Стоять насмерть!», где склоненный чуть вперед комиссар командует зенитным нарядом. Он ранен, склонен вперед, как и жерло стреляющей позади пушки. Позади в клубах пыли бегущие солдаты еще кажутся живыми, хотя и унесенными как облаком, а он с перевязанной головой, уже почти сломанный, державшийся на одной воле, но от этого почти уже нечеловеческий. Здесь уничтожается разница между «человеком и машиной», между «живым и мертвецом», человек превращается в памятник, стоящий на фоне грозового неба. Живые солдаты в клубах пыли как будто «ниже» его. Перед нами — вечность. Это момент «рождения» нового человека.
Или другая фотография, где солдат над исчезающим в той же дымке разрушенным Берлином водружает знамя на крыше Рейхстага. Рядом с застывшей фигурой солдата — фигуры памятников. Солдат становится как бы одним из них. Он «рождается» в сообщество, как в сообщество бессмертных.
Или сияющие советские солдаты, едущие в немецком трамвае... Этот образ кажется проще, но суть его та же: человек становится «живым памятником», он становится частью некоего архитектурного «сооружения», то есть частью вечности, если понимать архитектуру как доступный нам в камне образ вечности. Это «рожденные».
Другая фотография «встречи» солдат-мужчин и ожидающих их женщин. Волна женщин и цветов подходит прямо к узкой двери вагона-теплушки, из которого вылезают солдаты — длиннобородые и совсем юные: это и сцена рождения, и сцена свадьбы. Так, именно так будет в обществе теперь осмысляться идеология свадьбы.
Фотография людей «Первый день войны» вроде бы не имеет к этому отношение. Но и здесь в поднятых вверх (к скрытому громкоговорителю) лицах присутствует важный момент «социума» на переходе, в необходимости изменения, в свете той огромной тяжести, что на него ложится. И люди становятся как бы единой многоголовой скульптурной группой. Это становится основой всеобщности, памяти социума о самом себе.

А. Линдорф.
В берлинском трамвае — сталинградцы. Германия 1945
Даже, казалось бы, безобидные фотографии улиц, где на одном из домов указано, что эта сторона улицы опаснее при бомбежке, на деле представляют собою совершенно точно размеренное идейное пространство. Даже в воздухе проходит незримая черта, даже здесь разделяет мир на жизнь и смерть. И это задает идеологию совершенно особого отношения к мертвым. Это те, кто как бы под ногами живых, кто по другую сторону улицы. Это показывает и фотография «После артабстрела», где военные убирают трупы гражданских, а вдали идет молодая девушка в длинном, тоже как бы военном пальто... Хоронимое население здесь хоронится людьми в форме, чья строгость как бы знак того, что военные остаются для новой, будущей жизни. Что новые люди будут уже иными. Это и похороны прежнего, невоенизированного социума, и установление новых связей.
Война в своих «победительных» образах становится как бы метафорическим языком будущего.
Все эти внутренние конфигурации можно рассматривать подробнее. Можно подробнее рассматривать, какое значение получили в ходе военной съемки похороны, свадьбы, встречи и расставания, разделение на мужское и женское, рождение и смерть, все те параметры человеческой жизни, что были переписаны в шифре победы. На мой взгляд, в идеологии этого шифра продолжалась при всех изменениях и фотосъемка 60-х и 70-х годов вплоть до творчества или антитворчества Бориса Михайлова, творчество периода разложения военной парадигмы. Этим шифром оказались описаны как бы предельные параметры самого человеческого существования. Грубо говоря, только так понимая жизнь, смерть, любовь, мертвое, живое, мы смогли выстоять, победить, остаться как сообщество. Это и называется «сакральным», «священным» в широком смысле слова тем, во что мы верим. И оно преподносится в «победительных», священных высших авторитетах, образах, которые «смогли победить», оттеснить тот ужас, обычно показываемый в антивоенной фотографии, что надвигался на социум.

Николай Ситников.
Встреча воинов-победителей в Москве 1945
Надо отметить, что широкое «сакральное», победительное образотворчество началось гораздо раньше. В таких фигурах, как Эмманул Евзерихин, начинавший у конструктивистов, эта преемственность чувствуется особенно хорошо. Разработки авангарда двадцатых, вся «новая визуальность», занимавшаяся выработкой «нового человека», человека победы, были восприняты полностью в реакции 30-х. И хотя всех разработчиков уничтожили, их работа органично вошла в новый советский социалистический реализм, заявивший претензии на абсолютную объективность в показе истории. То, что эта объективность была формальным конструктом (и значит, несла в себе большую долю субъективности), со своими правилами и предписаниями, никого уже не интересовало. Война показывалась по тем же скрыто-авангардным принципам, что и фотографии 30-х. Однако то, что добавилось, здесь можно охарактеризовать как «рождение через смерть», которого не было в идеологии довоенной, желавшей показывать «счастливые» образы победы. Человек начинает видеться не как внеисторийная, светящаяся «единица», а как «герой», отчасти памятник самому себе. И визуальность сдвигается из мест чистой «утопии» как основания социума в идеологию «памятования», траура, в «память умерших», которые у нас на страже, которая связывает социум воедино и пронизывает его вплоть до нашего времени.
Фотографии предоставлены Московским домом фотографии.
















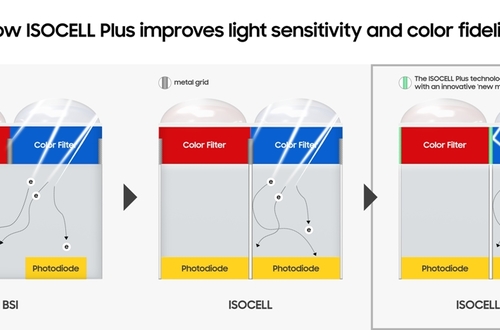

Комментарии